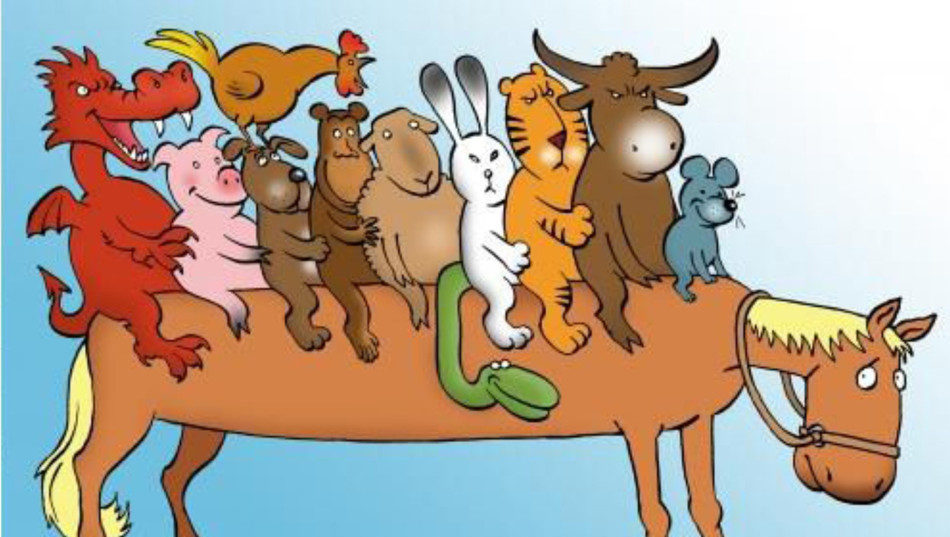– Видать, – объясняла она всей обеспокоенной родне, – настал мой черед к праотцам проследовать. Чувствую себя довольно посредственно. Ноги не ходят, а руки не держат. Аппетит угнетенный. Лежала бы днями в уголку. Не жилец я. Вот завещание на днях составлю – и прощаться к одру приходите. По-семейному, так сказать, проводите.
Родня поголовно рыдала. А муж Гена – пуще всех. И врачей к Любе приглашал различных. И знахарок со всей области. Но те руками лишь разводили.
– По возрасту, – говорили врачи и знахарки, – у данной пациентки анализы. И давление такое, что можно позавидовать. Аура вот еще довольно удачная. Мабуть, чего с головой приключилось у женщины. Бывает так по осени у некоторых. Везите лучше ее к специалисту по нервам.
Знахарки некоторые еще, конечно, рекомендовали зверобою для больной заваривать. Но Люба к специалистам ехать отказывалась и отваров не пила.
– У меня ясный ум и критичность мышления сохранена, – так она отвечала, – к специалисту по нервам пусть сами эти советчики катятся колбаской. А я банально жизненный путь прошла свой. И готовлюсь теперь к уходу в мир иной. Сажайте на салазки, как говорят в чукотских селениях. Финита ля комедия. Станешь ли ты, муж мой Геннадий, веселым вдовцом?
– Не стану, – Сидоров ей отвечал сквозь слезы, – я не готов еще к данному статусу. Ты ведь еще довольно молодая женщина – пятьдесят тебе только отмечать собираемся. Еще жить бы и радоваться. И внук вон к лету родится – неужто на него посмотреть не любопытно?
– Родится – и хорошо, – Люба еле слышно говорила, – назовите его Любкой. В честь помершей бабки. А я более не жилец. Тащи канцелярию – завещание писать желаю.
Сидоров при этих словах рыдал уже в голос. И за сердце держался. Все же тридцать лет с Любой вместе они прожили под одной крышей. А это приличный срок. Некоторые люди при таком стаже спаиваются меж собой буквально намертво.
– А скажи-ка, Гена, – Люба вдруг у супруга слабым голосом интересуется, – коли я уж скоро бренный мир покидаю. Признайся-ка мне, милый друг. Изменял ли ты мне за эти тридцать счастливых лет хоть единожды? Только как на духу выкладывай. Без экивоков.
И завещание писать перестала. Гена вздрогнул аж – вопроса такого не ожидал.
– Как можно, – заверяет от Любу горячо, – и ни разу в жизни! Даже беглая мысль о брачном адюльтере кажется мне возмутительной! Я по натуре человек совсем противоположный.
– Ну-ну, – Люба головой машет недоверчиво, – однако, врешь ты мне, Сидоров. Я по глазам вижу – был грешок с твоей стороны. Рассказывай немедля. Сейчас-то уже все можно. Коли и было чего – так я прощу с легким сердцем. Но хочу правду напоследок знать. Пусть и самую полынную.
Гена затылок почесал и вспомнил все же эпизод небольшой.
– Коли умоляешь, так и признаюсь. Измена небольшая, действительно, имелась, – виновато рассказывает, – но один лишь раз. Молод я тогда был. И ошибаться был горазд. В командировке с одной бабенкой схлестнулся. Жалею об этом постыдном факте по сей день.
– Это в тыщу девятьсот девяносто пятом, – Люба уточняет, – случилось? В Тамбове? По ранней весне?
– Да, – Гена глаза подальше прячет, – именно что в Тамбове и по весне. Но лишь единожды. С коллегой одной разведенной. Ребячество такое досадное выкинули. Потом-то более уж не выкидывали, конечно. Даже и не здоровались больше никогда. Нужна она мне, коллега эта…
– Это с инженершей Селёдкиной, – Люба на одре даже присела, – ребячились-то? С фигуристой такой блондинкой? Она еще после того Тамбова у дома нашего бродила с полгода. И все на окна поглядывала.
– Вроде, как бы и с ней, – Гена отвечает, – но я уже плохо помню такие незначительные факты биографии. Память-то хитро человеческая устроена – и все безнравственное затирает будто ластиком. Но разлучница та фигуристая была. Это, вроде, точно. И под окнами прогуливалась зачем-то. Я с ней уж и по-хорошему, и по-дурному тогда разговаривал. А она – знай себе шаталась.
– Ах, фигуристая? – Люба за грудки Геннадия даже чуток прихватила. Хоть и сил у нее давно было столько, сколько лишь у новорожденного кутенка бывает.
– Дык ведь лишь единожды, – Гена поясняет, – и десятки лет тому назад. И ты с легким сердцем прощать хотела. Так стоит ли расстраиваться нам в столь трагичный момент твоего угасания?! Имеет ли смысл по инжернеше Селёдкиной сейчас переживания муссировать? Лучше о душе давай пообщаемся. И о всяких загадках загробной жизни.
– Ах, о душе, – Люба взвилась тут даже, – ах, о загадках?!
– Но умираешь ведь совсем, – Геннадий опять чуть не плакал, – и завещание на этот счет составляется.
– А это ты все интересно придумал, Сидоров, – Люба тут с кровати спрыгнула и по дому энергично забегала, – я вот, значит, умираю тут во цвете лет. А ты инженершу в дом тащишь?! И она, Селёдкина, в халаты мои наряжается? Кастрюлями на кухне моей гремит? Из чашки моей какао распивает? И ребячитесь вы с ней на ложе вот этом супружеском?! И Тамбов вспоминаете?!
И Люба кошкой дикой к супругу кидается.
– А у нее, небось, и свой халат-то имеется, – Гена руками темя прикрывает, – а окромя ложа имеется в хозяйстве у нас и небольшой еще диванчик. И светлую память о тебе ни в жись я не запятнаю, клянусь здоровьем.
А Люба в этот самый миг как-то сразу и выздоровела. И Геннадию немного остатки кудрей потрепала за тот давний Тамбов. И с того момента помирать передумала навсегда. И ноги у нее резво ходят. И руки держат. К парикмахеру записалась. И в санаторий путевку взяла. С Геннадием, конечно, тоже наладилось со временем – все же тридцать лет с измены прошло. А Селёдкина, разлучница которая, и вовсе давно уж бабушка с мятой шейкой. И стоит ли тут Любе расстраиваться?
Ошибка